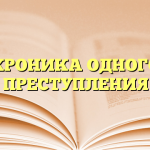СОСЕД Николай, молодой парень, возвратился пешком из-под Белгорода, где разбомбили эшелон с эвакуированными и заводским оборудованием, а в селе — немцы. До фронта уже не добраться, а новая власть проводит учет молодежи для отправки в Германию.
СОСЕД Николай, молодой парень, возвратился пешком из-под Белгорода, где разбомбили эшелон с эвакуированными и заводским оборудованием, а в селе — немцы. До фронта уже не добраться, а новая власть проводит учет молодежи для отправки в Германию.
СОСЕД Николай, молодой парень, возвратился пешком из-под Белгорода, где разбомбили эшелон с эвакуированными и заводским оборудованием, а в селе — немцы. До фронта уже не добраться, а новая власть проводит учет молодежи для отправки в Германию.
Когда Николай вышел из хаты с топором, мы играли во дворе и не обратили на него внимания. Он подошел к бревну, где рубили дрова, и положил на него ладонь, поднял топор…
Утром к ним пришли два полицая и офицер из управы. Разговор был коротким: дезертир, расстрел. Николая уводили со двора, а тетка Ганна, его мать, и сестры падали в ноги немцам и кричали: «Не убивайте…»
Через два дня он вернулся домой в форме полицая в обмен на жизнь. Нам было по 3-4 года, мы очень радовались, что Николай вернулся, потому что смотрели на все сквозь призму жизни.
 В августе 1943 года Николай поможет моей матери и мне избежать расстрела, выручит многих земляков, многим поможет достать документы, позволяющие уходить из деревни «на менку», как тогда говорили. Он ушел с нашими войсками и погиб при освобождении Польши. После войны приезжали люди, искали его, хотели поблагодарить за оказанную помощь, а может и поручиться за него, если бы ему не поверили. Поверили. Вечная тебе память, Николай.
В августе 1943 года Николай поможет моей матери и мне избежать расстрела, выручит многих земляков, многим поможет достать документы, позволяющие уходить из деревни «на менку», как тогда говорили. Он ушел с нашими войсками и погиб при освобождении Польши. После войны приезжали люди, искали его, хотели поблагодарить за оказанную помощь, а может и поручиться за него, если бы ему не поверили. Поверили. Вечная тебе память, Николай.
Оставшиеся в нашем селе немцы были расквартированы в домах по центральной улице. У нас останавливались редко, так как у хаты не было ставень. На ночь надо было маскировать окна, а их было шесть. Да и семья была большая: дедушка с бабушкой, три их сына-подростка и мы с матерью: ей 23 и мне четыре года. Отец мой был на войне, меня он ни разу еще не видел, так как служил срочную на острове Эзель в Балтийском море.
Там в первые месяцы войны попал в плен и никаких вестей от него не было до 1946 года. Меня приучили не бояться выстрелов. А когда рвались снаряды, бабушка говорила: «Не бойся, это твой папа немцев бьет». Моя подружка Светка спряталась при бомбежке под кровать, а когда все утихло, ее вытянули оттуда мертвую. От страха умерла. Говорили: разрыв сердца.
Немцы вовсю хозяйничали в селе. Сначала они переловили и съели всю птицу, затем, что у кого было покрупней. Коров угнали. Но жить надо было.
Однажды у нас поселился офицер — ему освободили комнату. Был он всегда приветлив, давал деду закуривать, но имел привычку своеобразно со мной играть каждый вечер. Достанет конфеты, разложит на столе, развернет одну и протягивает мне:
— На, Надья!
Я протягиваю руку, а он конфету к себе в рот. Ну так и продолжает, пока не съест все конфеты. А я плачу, тянусь каждый раз к нему, прошу: «Дай!» Как он смеялся! Он смеялся и трясся, и чавкал, и чавкал. Эти процедуры продолжались две недели. Меня весь день готовили, уговаривали не плакать, не смотреть и не просить конфеты. Старались, чтобы к его приходу я была у соседей. Но он все равно за мной посылал и мучил снова. Дед перестал брать у него папиросы, мать и бабушка просили его не дразнить меня, плакали вместе со мной, но ничего не помогало.
Мои дядья-подростки выходили из хаты, не скрывая своего возмущения. Обстановка накалялась. Старшему из ребят, Виктору, было 17 лет. Он сказал моей матери: «Сегодня фриц смеется последний раз». Мать передала разговор дедушке. Смех немца, мой крик и истерика начались, как обычно. Конфеты были в железной, очень красивой коробочке. Их было много, запах от них был необыкновенным. Боже, как хотелось мне взять хоть один зелененький комочек в рот… Я этот запах не могу переносить до сих пор.
Когда конфеты кончились, он вытер мне слезы и начал укачивать на руках, как будто ничего не было. Виктор вышел в сени. Мать и дед переглянулись, дед через минуту вышел следом за ним. Виктор стоял за дверью с топором.
— Ой, тату! Я чуть… Вас…
— Ты, что?! Нас всех за него сожгут живьем, ты подумал об этом?
Он держал его за плечи, но Виктор вырвался, открыл дверь и с топором вскочил в хату. Все остолбенели, а немец, сидевший к нему спиною, оглянулся на шум, столкнул меня с рук и схватился за бок. Но пистолет оказался в кителе, который висел на крючке в противоположном углу. Виктор, лучше всех изучивший немецкий язык, подскочил к нему и навзрыд начал кричать, размахивая топором:
— Ты, фашист, тварь! Ты долго будешь ребенка мучить? Сволочь, свинья, гад ты такой…
Слов не хватало. Он захлебывался от слез и беспомощности. Отец забрал у него из рук топор и бросил под стол, а Виктор все кричал и плакал, размахивая кулаками перед немцем. Плакали все, это был безысходный протест против унижения. Все обреченно смотрели на немца.
Он подошел к кителю, оделся, зашел в комнату, где квартировал. Все ждали молча. Вышел с чемоданом и шинелью на руке. Остановился против Виктора, ткнул его пальцем в грудь и крикнул:
— Партизан!
Когда он ушел, дед сказал:
— Ну, теперь и нам капут.
— Нет, — сказал Виктор, — посмотришь, ничего он не сделает. Он трус, он боится партизан.
Всю ночь не спали. Виктора отослали к родственникам на всякий случай. Но он ночевал на чердаке. Сказал:
— Если придут, я один должен отвечать, пусть одного и убьют.
Но никто не пришел, Виктор был прав. Кончилась эта история. Наш мучитель на второй день уехал в соседнее село, «позабыв» донести на нас. Очень боялся партизан. А Виктора три раза увозили в Германию, и три раза он убегал из вагонов, подпиливая доски. Последний раз его расстрелял часовой, стоявший на площадке последнего вагона. Вечная тебе память, Виктор.
В середине мая дед послал за село в лес среднего сына Гришу — понадобился черенок для граблей. Предупредил, чтобы вглубь не заходил.
Гришка меня нянчил. Мы с ним по утрам играли в щекотки.
Лежа на кровати, он закрывал глаза и говорил: «Я умер!» Я находила перышко в подушках и щекотала его, пока он не рассмеется, а потом радовалась:
— Я тебя оживила. Ты уже живой!
В то утро тоже так было. Он ушел в лес и сказал, что принесет мне цветов. Я так просилась с ним, но дед меня не пустил.
Сидим в хате, вдруг все вздрогнули от взрыва — одновременно зазвенели все окна, подо мной даже стульчик шевельнулся. Бабушка и мама как-то резко взглянули друг на друга.
— Гриша! — крикнула, как застонала, бабушка и, как стояла, босая выскочила во двор. Как бежали все мы к лесу, не помню. Когда я, последней, туда добралась, бабушка собирала на поляне все, что осталось после взрыва мины. Она прикладывала ухо к груди Гриши, хотя все было очевидно. Ему миновало всего шестнадцать.
— Боже, — обращалась она к небу, — я же без молитвы не ложилась и не вставала, зачем ты дал погубить невинную душу?
Вдруг подъехала телега, на ней постелено одеяло и белая простынь. Подошли два пожилых немца, из тех, что жили у нас. Сняли пилотки, постояли молча, потом жестами отодвинули нас в сторону, укрыли тело простыней и перенесли его на телегу.
Вечером наши постояльцы принесли одеяла, замаскировали ими окна, зажгли свечи. Когда стемнело, принесли ведро муки, банку повидла, тушенку и спирт. Боже, как мы бедно жили! В мае питались крапивой, мы, дети, ходили к кустам желтой акации и высасывали сладость из цветочков. А то и съедали их. Нечего было одеть живым, не в чем было и хоронить.
Когда стали прощаться с покойным, меня подняли на руках к гробу и сказали:
— Попрощайся, Гриша умер.
— Он не умер, вы не знаете ничего, он шутит так, я его оживлю!..
Я стала искать перышко, но подушка под его головой была из соломы. Я видела, что мне не верят, и кричала. Меня отнесли к соседям и не взяли на кладбище.
После похорон зашли все в хату помянуть покойного. Дед пытался поблагодарить немецких солдат за помощь, что-то говорил, не зная, как яснее выразить мысль. Помог пожилой солдат:
— Гитлер — капут, фатер.
И все, не стало Гриши, который еще в начале войны сделал детекторный приемничек, прятал его в немыслимых местах и давал слушать только своему отцу. Дед рассказывал новости, конечно, тем, кому доверял, и в деревне все знали о делах на фронте. Вечная тебе память, Григорий.
Надежда КОРОТКОВА,
пос. Чкаловcкое