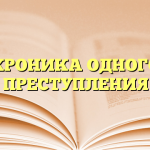И В ПОЛВЕКА РАССТОЯНЬЕ ОТ РАЗЛУКИ ДО СВИДАНЬЯ
И В ПОЛВЕКА РАССТОЯНЬЕ ОТ РАЗЛУКИ ДО СВИДАНЬЯ
ЧЕРЕЗ
несколько дней я уеду из посежа навстречу таким моим жизненным
испытаниям, что вспоминать страшно. Вскоре я буду списан с 3-го курса из
летного училища, успев, правда, налетать 105,5 часов чистого времени,
проведенного в небе.И В ПОЛВЕКА РАССТОЯНЬЕ ОТ РАЗЛУКИ ДО СВИДАНЬЯ
ЧЕРЕЗ несколько дней я уеду из посежа навстречу таким моим жизненным испытаниям, что вспоминать страшно. Вскоре я буду списан с 3-го курса из летного училища, успев, правда, налетать 105,5 часов чистого времени, проведенного в небе.
На небесной волне я успею окончить один из престижных тогда вузов — Харьковский авиационный институт, по окончании которого жизнь меня приземлила не просто, а лицом в грязь: я подымался, но снова падал, больно ударяясь затылком, грудью, всем телом.
Спиртное разъедало во мне все хорошее, штормя, трепало мои раненные крылья, гнало меня из дома от жены и сына. Сперва я оказался в Кировабаде на ремонтном авиационном заводе, где, в окружении конченных забулдыг, один на один с бедою, почувствовал засасывающую меня трясину.
Однажды, когда мне было совсем невмоготу, я чуть ли не с оборванной петлей на шее пришел к Генке Мамедову, узнав случайно, что он живет в Кировабаде. Генка процветал, это было видно по простору его квартиры и ее обстановке. Он был еще холостяком, но на столе при помощи молодой женщины появились голубцы, завернутые в листья винограда, плов, зелень, коньяк и вина разных сортов. От обилия и разнообразия закусок меня мутило, как от качки на корабле.
 Генка еще сильней раздался в плечах, а грудь напоминала хорошо надутую кислородную подушку, которой только мне и не хватало. Мы почти ни о чем не вспоминали, поскольку видимости памяти у нас были разные: у него — чистота и ясность на всем пространстве, у меня — тучи с редким просветлением.
Генка еще сильней раздался в плечах, а грудь напоминала хорошо надутую кислородную подушку, которой только мне и не хватало. Мы почти ни о чем не вспоминали, поскольку видимости памяти у нас были разные: у него — чистота и ясность на всем пространстве, у меня — тучи с редким просветлением.
Генка сидел и молчал, а я смотрел на его короткую стрижку под бобрик с серебряным кругляком и чувствовал, что он мной тяготится. Потерянные люди очень чувствительны. Я был в то время потерянным не только в его глазах, но и в своих, а это уже — край пропасти. Прощаясь, он протянул мне полупачку красных десяток.
У меня едва хватило сил и ума отказаться от денег. Выпив большую рюмку коньяка на дорогу, я вышел в сумерки, сгущая их своим черным осадком, лежащим на дне моей души, моей судьбы, моей жизни. Через неделю я вернулся в Харьков, где пошел служить в авиацию на два года техником самолета. Но спасенья и там не было.
После увольнения со службы, где только меня не носило. Поначалу я уехал к матушке в свой поселок, где устроился слесарем по ремонту оборудования на не работавший, а растаскиваемый нефтепромысел. На нем я долго не задержался и устроился в ташкентскую геологическую партию, которая что-то искала в горах возле города Мингечаур.
Геологи жили похлеще авиаторов. Я искал пути с выходом на свежий воздух, а натыкался каждый раз на канализационные люки с открытыми крышками. Из геологии я уехал в Кременчуг, оггуда завербовался в Темиргау, где пробыл всего две недели, пока меня не пожалел один сердобольный товарищ и сосед по койке в общежитии, бросивший пить. Он довез меня до Чугуева и растаял в ночи, не простив -шись. Фразу его, брошенную мне до этого, еще в вагоне, я запомнил на всю оставшуюся жизнь: «Надо тебе выжить, Владимир, надо!» Я дейст-
вительно постепенно стал выживать, встряхивать себя и защищать себя. Многие радовались выпрямляющейся и не петляющей уже моей поступи, другие, ухмыляясь, ожидали, икая, моего к ним возвращения. Это меня и злило, и забавляло, и устремляло, но не к ним, а от них подальше.
Все, что во мне было хорошего, достойного, человечного, я включил на все обороты, боясь на первых порах новых жизненных трещин и пробоин. На меня стали смотреть и даже оборачиваться знакомые и незнакомые красивые женщины, перемигиваясь между собой, пеленгуя меня улыбками, выставляя капканы для меня на всех своих прелестях, вдохновляя меня на донжуанские похождения. Я вспомнил, Лида, что когда-то любил, летал, мечтал о прекрасном. Память стала меня во все пристойное рядить, как раненного рыцаря в доспехи. Я стал заново учиться жить, писать стихи, признаваться в любви женщинам, рвать для них ромашки и васильки и ломать сирень, и задыхаться ог счастья, что я живой, здоровый, загорелый от солнечных ванн Ялты, Евпатории и Коктебеля. Стихи у меня посыпались манной небесной на тетрадь в доме, на блокнот — в транспорте, на листки — в дороге. Я едва успевал их
записывать, переписывать, перепечатывать, отсылать в разные издания и читать их в прессе от Москвы до самых до окраин. Память моя, похожая в какой-то мере на феноменальную, дарила мне второе дыхание и вторую молодость:
«Я на память богат
И поэтому помню
По весне твой наряд
И в осеннюю пору.
Столько лет позади,
Но навек остается:
У тебя на груди
Жилка-жилочка бьется».
Не буду, Лида, писать, кем я стал, за меня когда-то мое творчество скажет.
Передо мной на письменном моем столе лежит проездной билет, который завтра даст мне право сесть в вагон, чтоб уехать к тебе, в наше детство, в нашу юность, в наш поселок, где хорошая девочка Лида, цветком распускаясь, жила…
Владимир РОДИОНОВ 2004 год