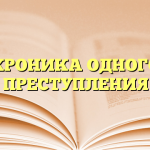МОЖЕТ быть, кому-то покажется этот случай из моего детства в оккупации и смешным, но когда мы с мамой вспоминали его — всегда плакали. Укусила я одного немца за зад, то есть за то место, чем сидят. Наверно, это за всю войну был один такой случай, и произошел он со мной.
МОЖЕТ быть, кому-то покажется этот случай из моего детства в оккупации и смешным, но когда мы с мамой вспоминали его — всегда плакали. Укусила я одного немца за зад, то есть за то место, чем сидят. Наверно, это за всю войну был один такой случай, и произошел он со мной.
В июле 1943 года через наше село немцы перегоняли впереди фронта стада коров. Женщины, глядя на животных, вздыхали:
— Пограбили наши колхозы, а теперь вот и с молочком, и с мясом, а все равно бегут.
Мама убирала в хате. Зеленые ветки, заготовленные для украшения стен, уже лежали в сенях. Постояльцев уже теперь не было, немцы держались кучнее и вразброс по селу жить боялись. Я переставляла стулья на сухие места, а мама тряпочкой растирала земляной пол с глиной, подоткнув повыше подол, чтобы не забрызгаться. Вдруг в комнату вошел немец. В руке — пастуший кнут, автомат висит на плече. Что-то сказал. Мама поправила юбку и послала меня принести кружку воды. Я пошла в кухню, взяла воду и тихонько, чтобы не расплескать, захожу в комнату. А на кровати мечутся руки и ноги, немец пытается схватить за руки маму. Она кричит:
— Доченька, уходи!
Я поставила кружку с водой на стул и, не долго думая, с разбегу упала сверху на немца и со всей силы укусила его ниже пояса. Когда он резко отбросил меня с себя, я, падая, увидела на его штанах из плащ-палатки два ряда отпечатков своих мокрых зубов, а во рту и на зубах у меня были песок и пыль. Одной рукой он держался за зад, а в другую схватил автомат, висевший рядом на стуле. Мама обхватила его за плечи со спины и кричит мне:
— Убегай, убегай!
А я стою, не могу сдвинуться с места и смотрю ему в лицо. Даже сегодня я бы его узнала из миллиона. Такие веснушки на лице, ушах, руках не всегда увидишь, но и не забудешь. Голубые глаза, редкие зубы, рыжие волосы и все посыпано пылью. Мы встретились взглядами. Вдруг он протянул руку и положил ладонь мне на голову. От руки пахло полынью и коровами. Затем он засмеялся, потер еще раз то место, где я укусила, похлопал меня по щекам и сказал:
— Киндер, киндер. Война, война…
Оглянулся на мою мать, еще раз засмеялся так заразительно, что даже у матери появилось подобие улыбки. Повесив на плечо автомат и сумку, вышел из хаты. А мама схватила меня в объятия, и мы долго плакали и пересказывали друг другу все, что с нами было.
Через несколько дней мы с мамой шли от колодца домой. Вдруг я увидела, что за нами бежит этот рыжий солдат-пастух. Приблизившись к нам, он вытянул из нагрудного кармана цветную фотографию. На ней — молодая женщина и трое хорошо одетых детей. Я никогда не видела таких красивых фотографий. Мать похвалила его детей и жену.
Он что-то говорил, она согласно кивала головой. Потом солдат пошарил в карманах и вытянул одну конфету, обвертка на ней была грязная и липкая, видно, не один день валялась в кармане до случая. Он протянул ее мне и погладил мою голову ладонью с уже знакомым запахом. И снова рассмеялся, наверное, вспомнил ту историю.
Когда мы зашли во двор, мать выхватила у меня конфету и швырнула со всей силы в картошку, которая росла возле хаты и уже зацветала. Не надо нам от них ничего! А я позже проползала всю грядку на коленках в поисках той конфеты, но не нашла. А так хотелось!
Прошли годы. Мама говорила, что этот пастух не был фашистом. Может быть. В тот час он оказался человеком.
В АВГУСТЕ 1943 года село освободили. В последний день перед приходом советских войск мы с радостью прислушивались к канонаде, доносившейся со стороны Харькова. Наши брали город уже навсегда. Люди друг другу передавали, в какие села вернулись наши. Это слово было таким родным и приятным и, казалось, лучшего не придумаешь. Самолеты пролетают над деревней — глаза и уши в небо: «Наши?» Снаряд разорвался, все вздрогнули, но кто-то спросит: «Наши?»
22 августа 1943 года мы с мамой шли с огорода домой. Одновременно во двор с улицы зашли два немецких офицера. Мама мне шепнула: «Эсэсовцы, пьяные». Они подошли к нам и стали знаками приказывать открыть дверь. Мать развела руками — нет ключа. Ключ обычно прятали в траве возле дома. Один из немцев возвратился назад за калитку и свистнул. Второй еще раз, уже со злостью, велел открывать дверь и тоже пошел за калитку. Расстояние от нас до ворот было метров пятнадцать.
Мать дернула меня за руку, и мы не побежали, а полетели, обжигая босые ноги колючими тыквенными листьями, за сарай, затем через огород забежали в соседский сарай и стали за дверью. Из-за накопившегося мусора дверь не открывалась и не закрывалась. Между стенкой и дверью стояли мы, ни живые, ни мертвые. Уже слышались выстрелы и крики во дворе, где мы находились. Понять можно было одно слово: «Партизан!»
Немцы метались по двору, стреляли в бочки, залитые водой, которые готовились для засолки огурцов. Вытащили из хаты тетку Ганну, она клялась и божилась, что никого не видела. Вышел Николай в полицейской форме, наскоро одетой, и сказал, что видел, как мы побежали в противоположную сторону. Один офицер метнулся в том направлении, а другой подошел к открытой двери сарая, где мы стояли. Он так сопел, задыхался от бега и злости, что нас услышать никак не мог. Нас разделяла доска. Пройди он вперед один шаг… но он побоялся, сарай до половины был забит соломой. Он выстрелил в солому два раза и закричал: «Партизан!»
Тетка Ганна громко плакала во дворе от страха. А мы стояли не дыша. Одна рука мамы лежала у меня на груди, прижимая к себе, другой она закрывала мне рот. С того момента я узнала, где у меня находится сердце. Оно не стучало, не сокращалось, оно ворочалось в моей худенькой груди и мне казалось, что если бы не было маминой ладони, оно бы разорвало мою грудь. Фашиста уже не было слышно. Боже! Ты оставил мне жизнь, маленькой, голодной и истощенной девочке. Спасибо тебе!
Николай догадался, где мы прятались. Он стоял возле нашей двери к нам спиной и негромко говорил:
— Галя, жди, пока я не скажу, куда тебе спрятаться.
Уже темнело, у меня начали стучать зубы, мне казалось, что это далеко слышно. Я вставила между зубов пальцы. Мамины слезы капали мне на голову. В нашей хате слышались выстрелы.
— Галя, — тихо позвал Николай, — беги огородами к Шульгам. Они знают и ждут тебя в землянке. Тебя ищут по другой стороне.
Мы выскочили и через несколько дворов добежали до землянки, где уже было много людей. Сидели в полутьме, горела одна свечка. Мама рассказала, что с нами произошло, нас все успокаивали. Кто-то сказал:
— Завтра придут наши, уже «катюши» бьют в Люботине.
Мне дали маленький белый кубик. Он был такой ровненький, что я подумала, что это игрушка. Но соседский Юрка сказал, что это сахар. Я с недоверием рассматривала его возле свечки, потом лизнула и все ожидала, что кто-то засмеется. Все смотрели на меня, и с горечью кто-то сказал: — Бедные дети…
В тот день еще никто не знал, что из восьми отцов, ушедших на фронт с нашей улицы, домой вернутся только двое и оба — инвалидами. А бедными мы будем еще очень долго, можно сказать, все детство.
Утром, когда я проснулась, в землянке никого не было. Все вышли на улицу. Какие они были радостные! Кто не видел этого, тому не понять…
В конце огорода на лугу стоял наш подбитый танк, пушка завязла в болоте, ее выталкивали все жители села, пристроившись друг к другу так плотно, что солдатам было не пробиться. Основные части наших прошли село, не останавливаясь. На этом участке немцам не давали закрепиться и опомниться.
Мы с мамой пошли домой. Дверь в хату была выбита, из старенького шкафа сорваны последние довоенные материны платья и затоптаны. Все фотографии, зеркала, окна — прострелены. Они спешили отомстить за свое поражение, и каким образом! Сколько же погубленных жизней на совести этих фашистов?! Будьте вы прокляты!
КОГДА пришло время мне идти в первый класс, мама причесала меня и со вздохом сказала:
— Доченька, у тебя так много седых волос. Неужели так и останутся навсегда? Может, перерастешь?
Не переросла. Остались мои волосы навсегда седыми.
Мама получила удостоверение «Участник Великой Отечественной войны», как и все, кто пережил годы оккупации. Это справедливо.