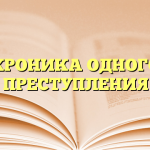И В ПОЛВЕКА РАССТОЯНЬЕ ОТ РАЗЛУКИ ДО СВИДАНЬЯ
Я ПЕЛ внутренне, в себя, прикипая всем сердцем к лирике слов, их чувствам. Вы останавливались, смотрели с интересом на Тольку, а он был рад стараться, шельма, вызвать блеск ваших таз еще раз на себя и начинал новую песню:
«Почему, отчего и не знаю сам,
Я поверил твоим голубым глазам».
И В ПОЛВЕКА РАССТОЯНЬЕ ОТ РАЗЛУКИ ДО СВИДАНЬЯ
Я ПЕЛ внутренне, в себя, прикипая всем сердцем к лирике слов, их чувствам. Вы останавливались, смотрели с интересом на Тольку, а он был рад стараться, шельма, вызвать блеск ваших таз еще раз на себя и начинал новую песню:
«Почему, отчего и не знаю сам,
Я поверил твоим голубым глазам».
Тольке хрипло подпевал его двоюродный брат Володька Дьяченко, которого мы вскоре провожали в армию и даже пели в его честь, все без исключения, на том же стреловидном асфальте. Но тогда, вместо свисающих низко звезд, блестела медным начищенным котелком луна, давая Володьке понять, что служить ему, как медному котелку. Мы пели для Володьки и только для него песню, давно забытую и лишь краешком зацепившуюся за мою память:
«Парень кудрявый, статный и бравый,
Что ж ты покидаешь нас,
Следам мы ходим, глаз мы не сводим
С карих и лукавых глаз».
Наутро мы все поехали в машине с открытым кузовом провожать Володьку в Кировабад, а перед тем, как с ним проститься, мы сфотографировались всей нашей компанией в фотоателье города. Не знаю, как ты, Лида, а я эту карточку пронес через все эти радостные и многострадальные 50 лет, чтобы нет-нет да и взглянуть, какими мы были юными, чистыми и очень наивными…
Володьке котелок не понадобился, он попал служить в Морфлот, вернулся оттуда колобкообразным, покачивающимся вразвалку, как настоящий моряк. Мы с ним сыграли в футбол несколько раз в одной команде, где даже пас он мне передавал, чуть раскачиваясь, поморскому. Спустя лет восемь после этого он погибнет на работе, в цехе кировабадского завода «Алюминьстрой» от рук своих товарищей, решивших над ним более, чем глупо, подшутить…
Проводив Володю в армию, мы продолжали оглашать летними вечерами окраины поселка песнями, которые перешли к нам от наших родителей по наследству. До выхода на сцену и входа в наши сердца Майи Кристалинской, Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи и Владимира Трошина было еще далековато. Нашими душами владели тогда Виноградов, Нечаев, Бунчиков, Шульженко и Бернес. Толька старательно начинал песни из «Свадьба с приданым», мы ему помогали, как могли:
«Я тоскую по соседству
И на расстоянии,
Ах, без вас я, как без сердца,
Жить не в состоянии».
Вскоре все разъехались по своим школам и учебным заведениям, оставив меня один на один с моим последним в поселке седьмым классом, с книгами, мечтами, как вас догнать, чем удивить, чем понравиться. А тут еще Леонид Утесов по моему маленькому приемнику задел меня своей новой песней:
«Я не поэт и не брюнет, не герой
Заявляю заранее,
Но буду ждать и тосковать,
Если ты не придешь на свидание».
Я тоже не был тогда ни поэтом, ни брюнетом, ни героем, и это меня, самолюбивого, подчеркну, от род/,очень удручало. А тут еще куда-то запропастился никогда никуда не уезжавший мой друг Сергей Казаров. Казалось, его ничего не интересовало, он гулял по поселку, как вольный ветер, не захотев учиться, застряв где-то между пятым и шестым классами, хотя и был старше меня года на три.
Неудобно писать, но мы с ним до запредельного детского возраста шастали по полям, одетыми лишь в трусы и майки. Отец у него был армянин, мать — русская, тетя Мотя. Был еще у него брат Николай, который, в отличие от Сергея, одевался модно, подражая гордости и славе Азербайджана — Рашиду Бейбутову. Вскоре он исчез куда-то, и больше я его не видел. Теперь вот Сергей куда-то делся.
И вдруг он на следующее лето, когда все вновь съехались в поселок, когда я окончил семь классов, Эмма — десять, ты, Лида, техникум, Толька с Валеркой перешли в десятый, объявился в морской форме Каспийской гражданской флотилии. Бывшего забулдыгу, увальня и разгильдяя было не узнать — настолько Сергей был высоким, стройным, собранным и чертовски симпатичным. В руках у него была гитара, которой он бравировал. Мы думали, что он этому только и научился.
Но когда он заиграл для нас, расположившихся на зеленом пятачке возле дома, где когда-то жила красавица Броня, похожая очень на тицианскую «Венеру перед зеркалом». Сравнение придет, конечно же, позже, но оно будет почти точным, ибо нам с Валеркой еще пацанами удалось посмотреть на нее в бане, когда банщик Кузовой забыл закрыть дверь, отделявшую женскую половину от мужской. Мы, приоткрыв дверь, голышами любовались красотой обнаженной Брони-Венеры, пока нас тот же Кузовой не оттащил от полоски-щели за уши, как шелудивых щенков. Броне сейчас, если она жива, где-то 72-73 года, но я представляю ее всегда той, розоватою в пару, похожею на Венеру, парящую в небесах…
Вернемся с небес на землю, где Сергей впервые прошелся по струнам:
«В пашу гавань заходили корабли,
Большие корабли из океана,
В таверне пировали моряки
И пили за здоровье капитана».
От природы более, чем смуглый, с длинными руками и ногами, хрипло шлепая своими толстыми губами, Сергей очень смахивал на негра.
Песня его благородила, преображала в знатного аргентинца, похожего на любовника знаменитой тогда певицы Лолиты Торрес. Мы заворожено смотрели на него, а он, чувствуя это, поддавал нам звонов струн, как масла в огонь:
«Надоело говорить и спорить,
И любить усталые глаза…
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина подымает паруса…»
Уже тогда повзрослевшим умом и истосковавшимся сердцем по любви к мисс поселка Эмме, я понял, что Сергей пел песни для тебя, Лида, своей креолки. В то лето Сергей нас порадовал своей гитарой, своим голосом, своим перерождением. Забегая лет на шесть-семь вперед, скажу, что Сергей будет играть в одном из ленинградских оркестров, тогда же найдет меня в Харьковском училище летчиков, будет играть несколько часов кряду для нас у куста распустившейся сирени.
Юра Малышев, будущий космонавт СССР, раздобудет бутылку шоколадного ликера, входившего тогда у нас, курсантов, во вкус, а Феликс, мой земляк по Сталинграду, принесет бутылку водки.
Сергей не притронется к спиртному, а будет курить свой план, к которому он пристрастился в мореходке. Глаза его, как угольки, будут блестеть, звуки струн гитары будут переходить от веселья к грусти и наоборот. Женя Шапошников, будущий Главком ВВС и Министр Обороны СССР, попросит Сергея спеть: «Мама, я летчика люблю…»
После этой встречи я Сергея больше не видел, слышал только, что тебе он, Лида, делал предложение, но пойти с ним под венец тебя отговорила Анастасия Алексеевна, мать Эммы. Анастасия Алексеевна, видимо, знала о пристрастии Сергея к наркотикам, и какое оно несет несчастье. Правда ли это или нет, я скоро могу обо всем узнать от тебя, Лида, хотя это уже ничего не меняет. Жив ли он вообще и где он? Не знаю. Возвращаюсь на миг к тому лету, когда мой друг пел для нас вплоть до нашего отъезда.
Я уезжал к себе на родину, в Сталинград, Эмма — в Куйбышев, поступать в пединститут, остальные — кто куда. Вдруг отца Эммы и моего учителя по русскому языку и литературе осенила мысль, что в Куйбышев проще простого можно попасть через Сталинград и что ехать нам вдвоем гораздо легче, чем Эмме одной.
Я был на седьмом небе от того, что еду не только в свой родной город, но еще как бы сопровождаю свою богиню. Я тут же на Нефтепромысле, слесарю высокого разряда, отцу Виктора Ищенко, заказал, чтоб он сделал мне охотничий нож с ножнами для защиты Эммы в длинной дороге, ведь я жил в Закавказье, в какой-то мере, по законам гор.
Я не думал тогда, глупыш, что меня могли с этим ножом задержать, ссадить с поезда в лучшем случае. На следующий день мы уезжали. До Баку, а это где-то километров 300, нас решил проводить отец Эммы, Федор Евсеевич, и мой старый друг и учитель. Врезалось в память, как он, сажая нас на поезд «Баку-Ростов», учил, особенно меня, как переходить дорогу: вперед посмотреть налево, потом — направо и тогда можно идти. Прошло полвека с тех пор, уже около 20-ти лет, как нет в живых моего учителя, а я всякий раз, переходя дорогу, по инерции памяти вспоминаю уроки своего наставника.
Мы вошли в вагон и сели на свои места. Отец Эммы простился с нами, подмигнул мне, наказав не давать Эммочку в обиду. Когда он ушел, я животом своим почувствовал вертикаль ножа под рубашкой, хотя в плацкартном вагоне было светло, уютно, мирно. Соседи наши, ну, прямо точь-в-точь по Каверину из книги «Два капитана» стали гадать вслух, кто мы — брат и сестра — не похожи, муж и жена — рановато.
Я впервые воочию убедился в правдивости своей любимой книги и в ее попадании в десятку. Вечером, когда готовились ко сну, я попросил Эмму отвернуться, чтоб достать нож и положить его под подушку Она была удивлена моей стеснительностью. Мы, хоть редко, но купались в Куре и загорали вместе. На следующий день, под вечер, у нас была пересадка на станции Тихорецкая, которая пользовалась славой махровых воров и карманников. Собственно говоря, для этого мне и посоветовал Сергей взять в дорогу нож.
«Спокойней будет!» — сказал он перед посошком на дорожку. Но все обошлось. Мы доехали до Сталинграда, где я оставил свою подругу дожидаться своего поезда на Куйбышев, а сам поехал искать свой район, свой барак с моей теткой, свое счастье. У тетки Тани по соседству оказался парень моих лет Толька Завгороднев, кому я и выложил, что у меня на сердце кошки скребут с тех пор, как оставил одну на вокзале свою не только попутчицу, но и подругу детства и даже любовь своей ранней юности.
Толька высказался за немедленный выезд на вокзал. Мы тут же поехали, увидели Эмму, но не посадили ее на поезд, который уходил поздно ночью. И все же на душе у меня полегчало, что увидел «объект» своего поклонения еще раз и не где-нибудь, а в самом Сталинграде…
Через год мы все снова съехались в наш поселок, вновь гуляли по асфальту, по поселковскому своеобразному Бродвею, пели песни, но уже без Сергея, который был то ли в море, то ли в Ленинграде. Однажды, придя к Валерке домой, я проболтался ему, что мы нынче вечером, Эмма, Лида,
Толька и я, идем на азербайджанское кладбища смотреть, как синие огоньки выходят наружу из-под могил. Ночь была на редкость темной, когда мы пошли по направлению к кладбищу, которое находилось недалеко от поселка, тем более, дорога к нему шла по асфальту. Помню, вы были посередине нас, Толька держал Эмму под рук/ с одной стороны, я тебя — с другой,
Толька всегда старался выпятиться, быть на первых ролях, ради этого он мать мог продать, святого для него, как показала дальнейшая жизнь, не существовало. Если я часто витал в облаках, пробуя писать стихи, много читая, думал в летном учиться, то он думал больше о земном, даже, я б сказал, приземленном.
Я о вас, девчонках, грезил, прошу прощение за штамп, как о божественных созданиях, он же тогда уже не терялся, вступая в связь со своей теткой, тремя годами его старше, и двоюродной сестрой. Но это будет позже. А пока мы шли и чем ближе подходили к столбам и глыбам кладбища, тем сильнее хрипел у нас голос и дрожал даже у певучего Тольки.
Я чувствовал, как твое, Лида, плечо крепче прижималось к моему и как твоя рука сжимала мою руку. А тут еще голос раздался, будто из-под небес на азербайджанский лад: «Ай, да-да-вай!» Мы замерли статуями. Первым опомнился я и не потому, что был смелее всех, а просто тогда вы, Лида и Эмма, дали мне ту возможность, о которой я мечтал, оставаясь один в поселке — спасти когда-нибудь от чего-то иль кого-то вас или чем-то доказать, что я могу все для вас, особенно для Эммы, сделать.
Потому-то я шагнул первым навстречу привидению в белом и, подойдя к нему, сильно толкнул его. Я думал от такого толчка привидение запрокинет ноги. Однако оно отпрыгнуло в сторону, сильно зазвенев при этом склянками и банками. Моя рука, готовая нанести второй удар, повисла в воздухе. И тут раздался обычный смех, слышанный нами годами.
Это Валерка Головин, содрав с головы противогаз, сбросив с себя две сшитые в стык старые простыни, приспособленные под балахон с подвешенными к нему звенящими причиндалами, предстал перед нами во весь свой худенький рост. Придя в себя, я вспомнил, что это я вдохновил его на этот розыгрыш. Мне так хочется спросить у тебя, Лида, помнишь ли ты этот случай?
Но вернемся к тому лету, к его окончанию, когда мы вновь разъезжались, когда Эмма предложила мне на мингечаурском искусственном море поехать опять вместе до Сталинграда. Она была очень удивлена моему отказу и впервые проявленному перед нею характеру бывшего ее поклонника. Но тогда уже был за мной не какой-то там Куйбышев, а великий Сталинград. Я уехал на неделю раньше, демонстративно почти ни с кем не прощаясь.
Через год, поздним летом в армию меня провожала только Эмма, многие в то лето не приехали в поселок. Не было и тебя, Лида. На проводах моих были почти все учителя, учившие меня семь лет, родственники и соседи. Поселок умел справлять праздники. Поздней ночью, при пересменке дней, мы с Эммой ускользнули из-за стола и пошли в школу, поднялись на верхнюю ступеньку порога. Стояла такая лунная ночь, что белая прозрачная кофточка на Эмме и ее светлые волосы отсвечивали сусальным золотом.
Настал тот момент, когда я, сбившись на полуслове, притянул к себе Эмму всей девятнадцатилетней мощью и прижал ее к себе так, что у нее от золотистой кофточки отлетели и упали бриллиантиками на паперть порога три пуговицы за три опоздавших не по моей вине, а Сталинградской битвы, класса.
Я прижимал ее до хруста и целовал до боли за длительную муть одиночества зимними длинными ночами, за то, что ее любили Толька, Генка, Валерка, а я ее боготворил, писал стихи ей, клялся мысленно ей быть лучше всех, достойней всех, сильней всех. «Будешь писать?» — спрашивал я, повторяясь. «Да-да-да!» — слышалось в ответ. Я не сказал ей, что жду вызова из самого знаменитого училища летчиков — Качинского, ставшего только что высшим.
Это были первые и последние объятия и поцелуи, как дань моему детству, моему отрочеству, где я был до ущербности стеснительным, моей поселковой юности. Эмма напишет мне несколько писем в Качинское училище летчиков, она умела держать слово, впитав в себя желание отца иметь первенца-мальчика…
Я приеду на следующий год курсантом Качинского летного училища, буду в поселке курсантом Харьковского училища летчиков, куда нас переведут второкурсниками, никого из друзей по детству и подруг по начальной юности не встречу. Поселок будет по-прежнему мил и красив. Я пройдусь по нему в блестящих хромовых сапогах-гармошках, в габардиновой гимнастерке с золотом погон, в фуражке с летным крабом.
На асфальтовой дорожке днем я разгоню солнечных зайчиков, вызывая на себя гогот гусей, пасущихся по обочинам дороги, и пристальные взгляды трех буйволов, шедших вослед за своим хозяином Ильясом и остановившихся вдруг; как по команде, повернув рогатые головы в мою сторон/. Ильяс от удивления почесывал затылок, потом, узнав меня, отдал мне честь грабелькой левой руки и повел свое хозяйство в сторон/ бывшего нефтяного резервуара, от которого осталось ржавое железо да под стать ржавчине — скудная растительность по кругу. На душе было муторно от одиночества и парадного моего одеяния.
Владимир РОДИОНОВ